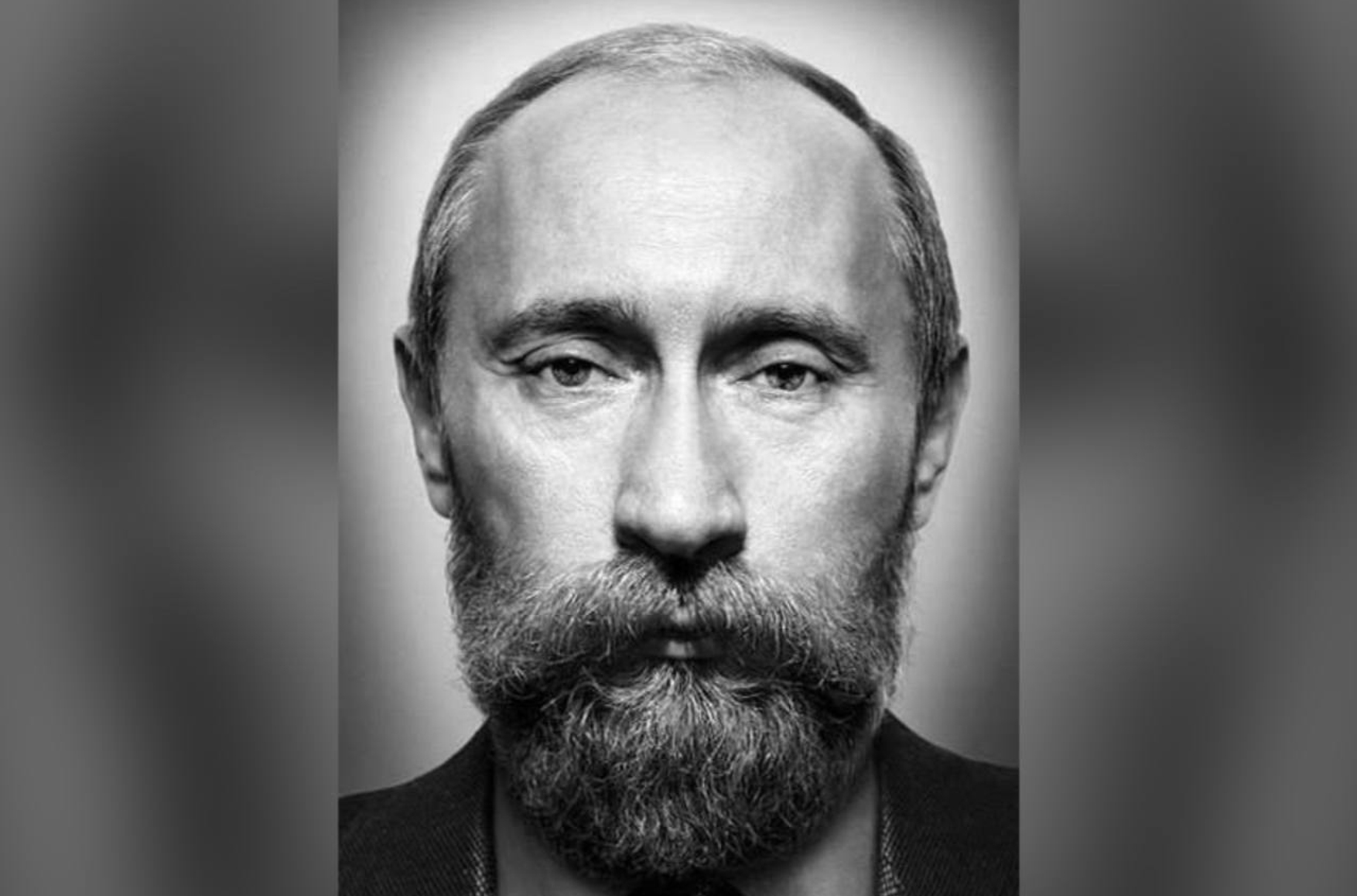
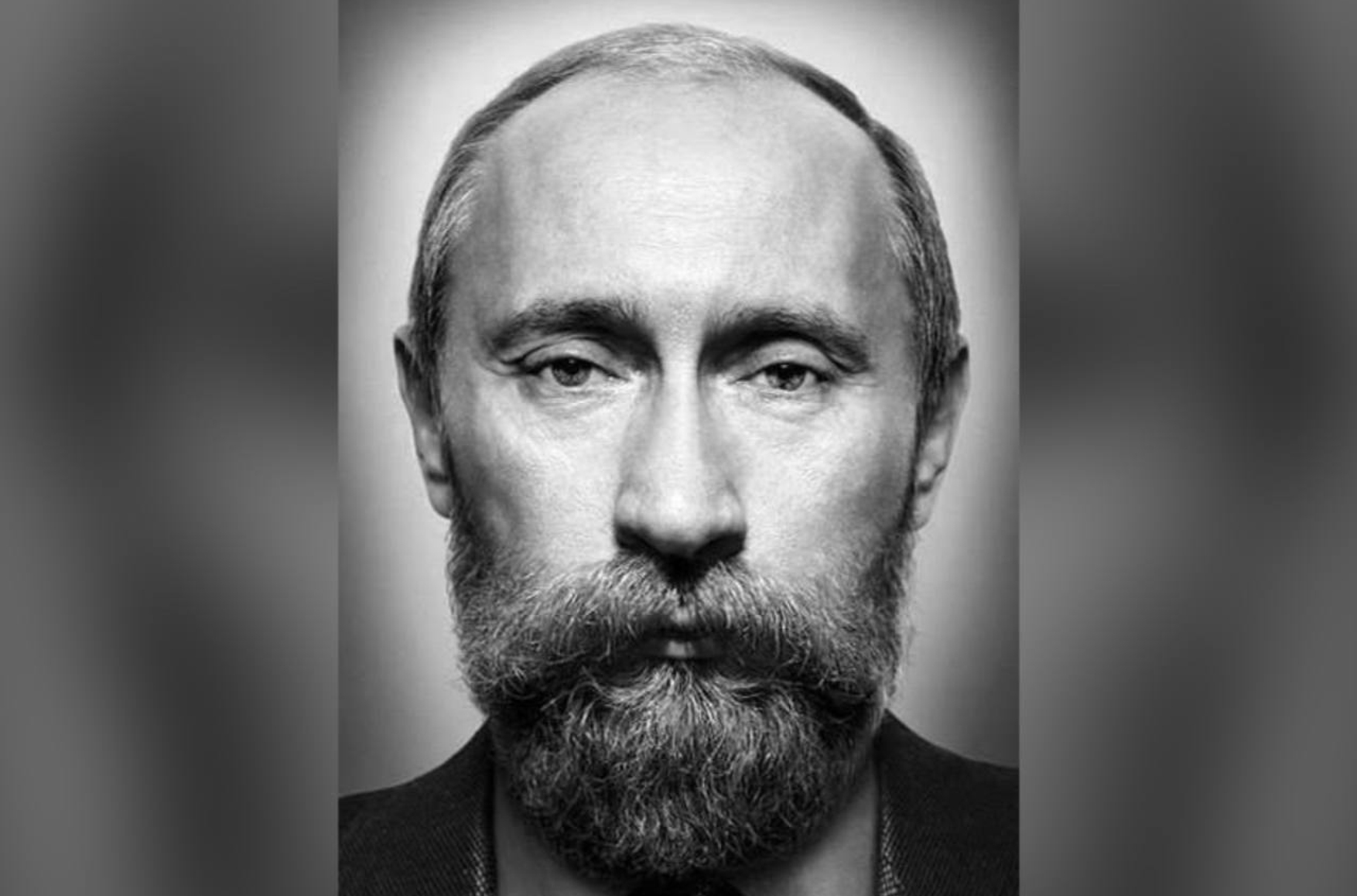
На прошлой неделе Владимир Путин исключил из состава Совета по правам человека журналиста Николая Сванидзе, правозащитника Игоря Каляпина и директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского. Николай Сванидзе считает, что, хотя СПЧ изначально был лишь муляжом демократического института, примерно как Государственная Дума в дореволюционной России, его окончательная «зачистка» лишний раз подтверждает: Путин, подобно Николаю II, не оставляет никакого очага политической жизни, помимо своей бюрократии, и тем самым делает революцию почти неизбежной.
Если бы в Блистательной Порте веке в XVII султан решил учредить Совет по правам человека, то понятно, права какого человека подразумевались бы. Совет состоял бы из янычар. Времена и нравы были мужественные и простые, без лицемерия.
С тех пор утекло много воды, и схожие с султанским режимы в настоящее время вынуждены возводить декорации. В советы нынче вводят не янычар, а гражданских или хотя бы тех, кто одет в штатское, а табельный ятаган оставляет дома.
Сам по себе Совет по правам человека — штука экзотическая. Там, где действуют реальные институты — парламент, суд, пресса, выборы, там, где властвует закон, — права человека защищаются без спецсовета при начальнике. Если институты не действуют, то от этого Совета проку не много.
С другой стороны, когда институты не действуют, страна живет по понятиям, причем по понятиям первого лица. Прямой доступ к этому лицу позволяет иногда, не системно, но кому-то помочь. В этом — большой соблазн. Но и эта во многом иллюзорная возможность при ужесточении самодержавия сходит на нет. Режим упрощается, его стилистика становится прямолинейной и грубой, любая структура принимает законченный откровенный бюрократический вид. А во время войны — военно-бюрократический.
В российской истории все связанное с бюрократией, как правило, имеет негативную коннотацию.
2 июня 1915 года заводчик, финансист, миллионер Алексей Иванович Путилов имел беседу с французским послом Морисом Палеологом. Закурив сигару, Путилов сказал:
«Дни царской власти сочтены. Она погибла безвозвратно. Революция неизбежна. Поводом может послужить что угодно — стачка, голод, мятеж в Москве или дворцовый скандал. Величайшее преступление царизма в том, что он не желал допустить, помимо своей бюрократии, никакого другого очага политической жизни. И в день, когда его сдадут чиновники, распадется само русское государство».
Действительно, незавидное зрелище, когда огромная страна имеет такое незатейливое устройство.
Правда, справедливости ради надо сказать, что русский царизм сделал над собой невероятное усилие и допустил создание парламента в лице Думы. Хотя для этого царю потребовалось пережить личный ужас во время первой в России революции, ужас вплоть до намерения уйти с престола. Не бросать престол Николая уговорил Распутин, а подписать Манифест о гражданских и политических свободах фактически заставил премьер-министр Витте.
Сам Николай искренне не понимал, в чем надобность Государственной Думы, и тем более не осознавал, какую страховку она может обеспечить ему в случае политического кризиса. Считал: хотят Думу — пусть будет картонная игрушка.
Сам Николай искренне не понимал, в чем надобность Государственной Думы
В старой, понятной Николаю России такого не было: множество политических партий, межпартийные союзы, альянсы с людьми из бизнеса, разговоры о правительстве общественного доверия — и уж просто конец света, когда заводчики сами втягивают своих рабочих в общественную деятельность.
Россия второго десятилетия XX века располагала большим бизнес-сообществом, но Николай и в нем не видел потенциального союзника. Вполне вероятно, что это было пренебрежение барина к бывшим крепостным, выбившимся в богачи. Но в начале XX века такой взгляд был явно недостаточен для главы государства, где крупный частный бизнес обеспечивает рекордные темпы экономического роста и неизбежно будет стремиться к политическому влиянию, а для этого захочет иметь парламент с реальными полномочиями.
Главный запрос русской буржуазии — обеспечить открытые общие правила игры в бизнесе.
Вроде бы задача локальная, но на самом деле — абсолютно революционная. В перспективе ее успешное решение могло бы привести к нормальному ограничению самодержавия. Но в тот момент дело было не в царе. Наиболее активные, говоря сегодняшним языком, креативные силы российского общества имели куда более серьезного противника, чем царь. А именно бюрократию, которая в Российской империи была сильнее самодержца. И она встала на дыбы.
У бюрократии начала XX века, прежде всего петербургской, были свои конкретные экономические интересы. Высшее чиновничество и двор, включая большое Романовское семейство, давно состояли в советах директоров крупных коммерческих структур, владели акциями, ценными бумагами, играли на бирже. Плюс коррупция. И главное, в силу близости к трону высшая бюрократия имела доступ к государственным кредитам. То есть к тем самым свободным деньгам, за которые для развития своего бизнеса бились прежде всего московские гиганты, вроде Рябушинского и Второва.
Высшее чиновничество состояло в советах директоров, владело акциями, играло на бирже
Их бизнес из-за питерской бюрократии терял перспективу. Именно поэтому в первую очередь московский бизнес (питерский бизнес больше связан со столичным чиновничеством) желал политического влияния через Государственную Думу, расширения ее полномочий, назначения ею министров, контроля за бюджетом и дальше по списку. И даже в военном 1915 году попытки в этом направлении продолжались.
Путилов, свидетель этой безуспешной борьбы, беседуя с французским послом, знал, что говорил про питерскую бюрократию: она легко сдаст государя при первых признаках его ослабления, в нем просто не будет никакой практической необходимости. А другой поддержки у государя не окажется. К тому же он ввязался в Мировую войну.
Питерская бюрократия легко сдаст государя при первых признаках его ослабления
Прежде всего, от эйфории. По причине экономического и демографического подъема в стране инстинкт государственного самосохранения ослабел, захотелось военных побед. Силовики всячески поддерживали это желание и напрямую требовали у царя денег.
Категорически против был премьер-министр Коковцов — последний из славной троицы сильных российских премьеров после Витте и Столыпина. Витте в свое время высказал крамольную мысль:
«В интересах России не следует пытаться играть лидирующую роль, целесообразно отойти во второй ряд мировых держав, организовывая тем временем страну, восстанавливая внутренний мир».
Коковцов разделял эту позицию и был уволен Николаем. Узнав об увольнении, вдовствующая императрица мать Николая сказала:
«Мы идем верными шагами к катастрофе».
Коковцов заранее предвидел еще одно скверное обстоятельство. Гонка вооружений, демонстрация ее успехов вселит в массовое сознание мысль о том, что война неизбежна и будет удачной. Нервное возбуждение поднимется так высоко, что захлестнет даже самых убежденных противников войны. Премьер Коковцов как в воду глядел. Массовый патриотический восторг в начале войны опьянит всех, но похмелье будет страшным. Николай об этом не думал.
Ему хотелось утолить комплекс от поражения в русско-японской войне. Кроме того, захотелось выступить в качестве старшего брата и помочь сербам. И наконец, главное: мечта воссесть Белому царю в сакральном городе Константинополе, родине православия, а еще просто сесть на желанных проливах в Средиземное море и открывать их по своему, а не турецкому, усмотрению.
Финал всем этим мечтаниям известен — Октябрь 1917 года.
За время советской власти от прежней России не осталось камня на камне. Но сохранился главный принцип: правящим классом осталась бюрократия со своим умением соединять власть и собственность. Никакие реальные институты ей действительно не нужны.